Во второй год Второй мировой войны писатель Роберт Грэйвз начал работать над статьей для газеты The Listener. «Меня попросили объяснить на правах «писателя последней войны», почему в последнее время было написано так мало военной поэзии», — упоминает Роберт в своем материале. Более полувека спустя кажется не менее резонным вопрос, почему Первая мировая война настолько сильнее отразилась в английской литературе, нежели в литературах других воюющих сторон.
С самых первых недель конфликта Первая мировая вдохновила сотни творцов на написание всевозможной прозы и поэзии. На самом деле очень трудно обосновать тот факт, что в первые полгода войны в Германии из под пера поэтов вышло около трех миллионов стихотворений, но Кэтрин Райли (британский библиограф) удалось насчитать 2.225 английских писателей времен Первой мировой войны, 1.808 из которых были цивильными. Например, Уильям Уотсон (некогда популярный, а нынче практически забытый, поэт) очень быстро для себя решил, что его поэзия обязана запомниться народу в таком свете, чтобы люди вспоминали его, Уильяма Уотсона, как народного поэта кризисного периода. Его авторству принадлежит 16 военных поэм, опубликованных в разных газетах еще в первые несколько недель войны.
Список «военных» поэтов, писавших на французском, в La Litterature de la Guerre Жана Вика достигает впечатляющих 18 страниц. К 1915 году публикации военных романов и личных наблюдений также были поставлены «на конвейер». Одним из самых влиятельных антивоенных романов стал «Огонь» Анри Барбюса, написанный в 1916 году, за который писатель был награжден престижной Гонкуровской премией. Книга разошлась тиражом 200.000 экземпляров только на французском языке, английский перевод появился год спустя, а на немецкий книга была переведена в Цюрихе в последние месяцы войны. Особыми почитателями этого романа были английские писатели Зигфрид Сассун и Уилфред Оуэн. Висенте Бласко Ибаньес — еще один представитель творческого цеха, его роман «Четыре всадника Апокалипсиса» был опубликован в 1916 году, 2 года спустя был переведен на английский, а после окончания войны стал основой для прекрасного фильма с участием Рудольфа Валентино.
Нельзя не признать, что война 1914-1918 годов оказалась более литературной, нежели предыдущий общеконтинентальный конфликт 1792-1815 годов, хотя современники в силу эпохи начинают забывать, сколько всего было написано о той, более ранней, войне. Уильям Мэттьюз в «Британских автобиография» (1955 год) насчитывает 87 опубликованных журналов и мемуаров, авторами которых были военные. Также было опубликовано несколько романов авторства непосредственных участников боевых действий, например произведение The Post-Captain, написанное в 1806 году Джоном Дэвисом, стадо примером для таких писателей, как Фредерик Марриат, Эдвард Ховард и Фредерик Чамьер; литературное наследие тех сражений также насчитывает сотни поэзий.
Многие полагают, что поле сражений не является самым удачным литературным пространством, и, не смотря на то, что французские революции и наполеоновские войны растянулись на долгие 23 года, эти события освещают не более чем малозначительные происшествия в работах большинства писателей тех времен. Это было привычным делом не только для Британии, где не было общего военного призыва и война, в основном, происходила лишь на страницах периодических изданий, но и для Франции, Испании и Италии. Германия остается в стороне, так как националистические течения в период между 1809 и 1814 годами способствовали появлению нескольких романов и большого числа поэзий, которые стали основой для националистического движения в 1914 году.
На самом деле довольно трудно подкрепить фактами мнение, что народный шовинизм был гораздо мощнее и глубже распространен в 1914 году, нежели сто лет назад, но стоит заметить, что в момент разгара Первой мировой войны литературный и интеллектуальный климат в целом был в разы благоприятнее для военной литературы, чем в более ранние периоды. «Война и Мир» Толстого, с многочисленными визуализированными сценами боев и переплетением миролюбивых забот и катасрофического размера военных переживаний, вызывала восторженные чувства мирового масштаба, по праву считаясь одним из лучших — возможно самым лучшим — романом. Среди писателей, которые ощутили на себе влияние этого произведения, был Уолтер Блум, а его трилогия, посвященная франко-прусской войне, была настоящим бестселлером в Германии.
Во Франции традиции натурализма были определяющей силой, повлиявшей на создание «Огня» Барбюса; к тому времени он уже сделал себе имя писателя нео-натуралиста. Среди британских писателей наибольшим влиянием отметилась несколько иная ветвь реализма, популяризированная Томасом Харди. Градус войны, достигнутый буквально в один миг к 1914 году, не менее четко выражается посредством красок и живописи: среди британских художников Кристофер Невинсон (и Пол Нэш посредством трендовой живописи Поля Сезана) увидел в итальянском футуризме художественный прием, с помощью которого он с особым ожесточением изобразил влияние века машинизированных противостояний на человека и природу.
В противоположность этому, война 1939-45 годов началась в тот период, когда многие литературные и художественные инновации уже полностью себя изжили. Наверное, самым показательным фактором является то, что некогда военные события, в 1914 году считавшиеся шокирующими в литературе, нынче обрели некий характер обыденности. В 1943 году поэт Кит Дуглас объяснял это следующим образом:
«Нельзя дважды допустить один и тот же Ад: мы его допустили во время Великой Войны, таким же он предстает перед нами и сейчас. Лишения, боль и печаль, тяжба жизни и царство смерти — все это было так ярко описано поэтами Великой Войны, что каждый день ужасающих сражений на западном фронте, и, без сомнения, на русских просторах, нашел свое отражение в их произведениях».
Возможно, главное различие между литературой 1914-18 и 1939-45 годов заключается в том, как мы воспринимаем те события. Как уже было сказано, Кэтрин Райли составила список из 2,225 британских писателей времен Первой мировой войны, но едва ли десять из них остались в памяти современников, и еще максимум десять из них заслуживают того, чтобы быть занесенными в анналы истории. В Германии и Италии был целый ряд писателей, которые пользовались популярностью в период между 1920-м и 1930-м годами, но подверглись строгой цензуре с упадом диктатуры в 40-ых годах. В обеих странах работы таких фронтовых писателей, как Эрнст Юнгер, Вернер Бемельбург, Паоло Монелли и Пьеро Хайер, были огромным подспорьем для создания идеологического и интеллектуального климата, с помощью которого так широко распространились идеи фашизма.
В Германии студенты даже писали дипломные работе по фронтовой литературе, в результате чего были опубликованы несколько довольно заметных статей в таких академических журналах, как Zeitschrift fur Deutschkunde и Dichtung und Volkstum. Основой тех работ было исследование идеологического подтекста литературы Первой мировой войны. Основной нынешней ценностью этих работ является двоякое отношение и оценка событий, которые относятся к периоду нацизма. Однако, свержение нацистского режима привело к логической дискредитации писателей, выступавших за военные идеалы, в то время как такие писатели, как Роберт Грэйвз, Зигфрид Сасон и Эрих Мария Ремарк, которые были сторонниками антивоенной позиции, безусловно оказались на гребне литературного успеха начиная с 1945 года.
Вряд ли можно счесть за совпадение тот факт, что всеми обожаемый нынче поэт Первой мировой войны, Уилфрид Оуэн, стал популярен лишь начиная с 60-х годов прошлого века. Моральная своевременность того, что хотят сообщить нам писатели, таким же образом важна, как и те методы, которыми они оперируют под час своего творчества: подобный яркий пример мы можем наблюдать и в более поздний период, так как книги (и фильмы) о Вьетнамской войне гораздо популярны именно сейчас.
Относительно современности, однозначное предпочтение в количестве написанного отдается Второй мировой войне, нежели Первой, хотя соотношение поэзии может быть противоположным. Меньшее число написанных стихотворений, посвященных Второй мировой войне, обязано тому факту, что сам статус поэзии претерпел определенных изменений в послевоенные годы; однако это изменение заключается не в упадке литературной формы как таковой, а в том, что поэты начала прошлого века в большинстве своем наследовали пример своих предшественников.
Относительно писательству в целом, литература Второй мировой войны никогда не пользовалась привилегиями идеологических противоречий, которые позволили возвыситься таким деятелям как Эрнст Юнгер, Эрих Мария Ремарк, Роберт Грэйвз и Зигфрид Сасон, хотя некоторые военные мемуары были достаточно хороши, особенно те, которые были опубликованы в последние 20 лет, когда воспоминания о войне уже вышли из моды. Относительно прозы, возможно, Вторая мировая война вдохновила писателей на творчество несколько более высокого уровня, нежели писателей времен Первой мировой войны, потому что большинство творцов середины века уже имели предыдущий опыт писательства. Среди них стоит отметить Ивлина Во, Нормана Мейлера, Альбера Камю, Генриха Белля. В этом ряду так же находятся двое британцев Антони Пауэл и Грэм Грин, чьи работы были своеобразным отображением военного опыта. Но никто из вышеупомянутых шести авторов не ассоциировались так плотно с военной тематикой, как Юнгер, Ремарк и Сасон. На самом деле нет тому объективного объяснения: возможно, дело в случае, возможно — в убеждении критиков.
Но вопрос того, каким мы видим прошлое, не ограничивается рамками теоретического и академического. Мы живем в то время, когда события 1914-1918 годов помогают нам дать объективную оценку происшествиям в Ираке, Югославии и т. д. То, что они могут сказать нам, несмотря на всю трагичность и кровожадность, до сих пор отдает болью в сердце. Первая мировая война закончилась почти сто лет назад, но современные события не оставляют нам надежду на мирное и безопасное будущее.




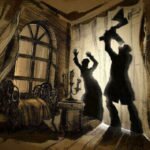
2
Отправить ответ
Странно, что статья как-то уклоняется называть вещи своими именами: почему период литературы Второй мировой называется «литература после Первой мировой войны»? И если отрезок шире, чем предполагалось(а ведь упомянуты Ирак и Югославия, 60-е годы, Вьетнам), то почему не обратиться к каждой теме по отдельности?
Можно было бы сказать, что статья явно свернула с начерченного пути, но как быть, если путь автор представлял себе не ясно?
Если вы внимательно посмотрите на контекст, в котором упоминались даты и названные страны, вы поймете, что в данном случае не рассматривалась ни литература, ни культурное наследие последующих времен, а Ирак и Югославия выступают лишь в качестве примера боевых действий современности. Упоминание про 60-е годы тоже не особо корректно, ибо фраза «Уилфрид Оуэн, стал популярен лишь начиная с 60-х годов прошлого века» увы означает то, что творчество поэта стало актуальным лишь в 60-е, а умер он задолго до того — в 1918 году.