 «Ваше имя не рифмуется с современностью, — оно — из прошлого или будущего — издалека», — писала Рильке Марина Цветаева. Богемско-австрийский поэт был вполне анахроничным — в поэзии, письмах, быту. Казалось, что он всегда — невпопад, как случайный прохожий на свадебных фотографиях. Возможно, именно поэтому людям так сложно разобраться в его творчестве.
«Ваше имя не рифмуется с современностью, — оно — из прошлого или будущего — издалека», — писала Рильке Марина Цветаева. Богемско-австрийский поэт был вполне анахроничным — в поэзии, письмах, быту. Казалось, что он всегда — невпопад, как случайный прохожий на свадебных фотографиях. Возможно, именно поэтому людям так сложно разобраться в его творчестве.
Рильке — уникальный писатель, ведь он один из немногих, кому удалось одновременно объединить немало традиций, существовавших до него, и предложить литературе что-то новое. В частности, мощную поэтическую струю, которая может доминировать даже в прозаических произведениях.
Будущий поэт родился в 1875 году в семье чиновника Йозефа Рильке. В Европе этого времени господствует ранняя модерность с ее пропагандой постоянного преступления границ: сознания, поэтики и жизнеописания. Письмо для авторов этого времени неотделимо от жизни, это часть биографической стратегии и мифотворчества. Идеологема «я живу так, как пишу» и «пишу, как живу» — основополагающие принципы раннего модернизма, корни которого можно усмотреть прежде всего в немецком романтизме.
Рильке повезло жить во времена упадка позитивистских принципов, которые и так не особо прочно закрепились на австрийском грунте. Появляются многочисленные антирационалистические практики: спиритуализм, мистицизм, культ изысканности, интерес к наркотическим веществам, тяга к самоубийству — и все это можно прочесть в поэзии раннего Рильке, который не гнушался участвовать одновременно до всех модных тенденциях.
 Молодой символист Рильке был обречен вести неуравновешенную путешествующую жизнь. Этот юный любитель аристократических салонов хотел нравиться как можно большему количеству людей, поэтому старался в своем творчестве равняться на поэтику талантливых предшественников. Тексты раннего поэтического периода можно разделить на две категории: конформистские любительские поэзии, которые наследовали предыдущие символистские практики, и более поздние произведения, которые отличаются мощной индивидуалистической струей. «Сонеты к Орфею», «Книга образов», «Дуинских элегии» — это победа Рильке не только над салонной традицией, но и над самим собой, над желанием всем угодить и приспособиться к вкусам публики.
Молодой символист Рильке был обречен вести неуравновешенную путешествующую жизнь. Этот юный любитель аристократических салонов хотел нравиться как можно большему количеству людей, поэтому старался в своем творчестве равняться на поэтику талантливых предшественников. Тексты раннего поэтического периода можно разделить на две категории: конформистские любительские поэзии, которые наследовали предыдущие символистские практики, и более поздние произведения, которые отличаются мощной индивидуалистической струей. «Сонеты к Орфею», «Книга образов», «Дуинских элегии» — это победа Рильке не только над салонной традицией, но и над самим собой, над желанием всем угодить и приспособиться к вкусам публики.
Рильке был поэтом «даже, когда он мыл руки», — так писал о нем австрийский философ культуры Рудольф Касснер. Сам «хронический поэт» прекрасно знал о своем шарме и умел использовать такое впечатление. Возможно, эту естественную артистичность он унаследовал от матери. Софи Рильке была большой фантазеркой и всем рассказывала, что она происходит из богатого знатного рода, который переживает не лучшие времена. Конечно, документально это никак не подтвердилось. Рильке продолжил семейную легенду, приняв образ «последнего ребенка аристократии», нежного поэтического цветка, который страдает от грубого настоящего.
Среди его любимцев и литературных родителей отдельно стоит выделить Генриха фон Клейста. Этот немецкий романтик утверждал, что художник должен быть «перенапряженным», вести «антинормативный» образ жизни, отличаться толпы, ведь творчество невозможно в посредственном окружении. Молодой Рильке, наследуя Клейста, пытается погрузиться в поток жизни глубже, схватить вещь и «окутать ее словом», чтобы затем вынести ее за пределы натуралистической повседневности. Этот прием он обнажил в своем единственном крупном прозаическом произведении — «Заметки Мальте Лявридса Бригге».
Прозаическое письмо для Рильке — это текстовый монтаж, в процессе которого он «вклеивает» на бумагу фрагменты реальности, сновидений, воспоминаний, причем грани между всеми этими элементами умышленное размыты, чтобы возникло видение мира, близкое к сюрреалистическому коллажу начала ХХ века. Интересно, что в своих произведениях Рильке преимущественно пишет от первого лица, отбросив отстраненное реалистичное «он» или «она», поскольку такая объективация всегда предполагает описательность и накопление словесных конструкций, которых поэт хотел избегать.
Поездки в другие страны были для Рильке чрезвычайно важными, ведь они помогли писателю найти собственную манеру письма. Однако отдельно стоит остановиться на трех странах — Дании, Италии и Франции.
В 1904 году Рильке едет в Данию, там он исследует скандинавскую культуру и учит язык. Именно в Дании поэт открывает для себя философа и теолога Серена Кьеркегора, чью идею «момента выбора» впоследствии развили экзистенциалисты. Но больше всего Рильке поражают романы Йенса Петера Якобсена. Проза Якобсена открывает молодому поэту мелодику языка, и этому принципу он остается верен до конца жизни. Все позднее творчество Рильке — элегии, сонеты, романы — это сплошной поэтический поток, который не ограничен никакими рамками жанровых условностей. А дневники является эскизом, в котором можно свободно «расписывать» свое перо.
Кроме романтической традиции всемирной тоски, с немецким романтизмом Рильке связывает итальянский нарратив — романтическая вера в идеальный топос, идея, что каждый настоящий художник должен побывать в Италии. Рильке был в Италии целых четыре раза, благодаря чему появился «Флорентийский дневник». Это произведение — испытание, в вытачивании авторского стиля, палимпсест, из которого потом появились «Записки Мальте Лявридса Бригге».
Впоследствии был Париж, который Рильке очень не понравился. «Париж тяжелый. Не могу выразить, насколько мне здесь все несимпатичное», — писал поэт в письмах жене. Больше всего Рильке раздражает толпа и грязь — то, что так поэтически описал в «Чрево Парижа» Эмиль Золя. Чтобы как-то отстраниться от отвратительной реальности, Рильке садится писать историю датского поэта Мальте Лявридса Бригге, который живет в Париже и искренне его ненавидит. Мальте — художник и аристократ, который никак не найдет свое место в жизни, и не чувствует себя своим среди людей.
Откровенно автобиографическим в романе является не только образ главного героя, а также время и место событий. Заметки начинаются записью от 11 сентября 1902, в день, когда Рильке написал письмо жене о «несимпатичном Париже». Тоска Рильке за судьбой Мальте — это и траур по себе. У французского философа Эмиля Чорана есть интересное наблюдение: автор, настроенный на смерть, должен всегда представлять свои похороны. Рильке в «Заметках» — это классический чоранист, у которого романтический траур граничит с самовлюбленностью «блудного сына», который никак не найдет свою родину.
Сегодня с уверенностью можно утверждать, что без Рильке не произошло бы развитию современного письма. Именно «из Рильке» появилась поэтика Хулио Кортасара. Известно, что Кортасар, садясь писать роман или стихотворение, часто не знал, чем он закончится. Аргентинский классик позволял тексту самому себя плести, пропагандируя спонтанность, заложенную в письме. Так же и Рильке пренебрегал конструктивистскими принципами творчества: финал сам должен был «прийти» к автору в процессе письма. В этом смысле немецкоязычный писатель близок к художнику: из цветных пятен и полутонов он создавал сплошное символическое плетение.
Рильке первым в прозаической традиции ввел «прием камеры», то есть взгляд рассказчика, фиксирующий все — грязные улицы, странные запахи, день и ночь — но не претендущий на реалистичную всеобщность. Такая беспристрастная фиксация предусматривает тотальный вещизм, ведь мы чувствуем мир через вещи, а не абстрактные понятия. Деталь помогает персонажам Рильке выстраивать ассоциативный мир, где вещи являются самодостаточными концептами, например, в «Стихах о образах». Впоследствии основатель направления «нового романа» Роб-Грийе перенял этот принцип «беспристрастного» взгляда камеры Рильке. Французский «шозизм», то есть тотальный вещизм, не мог бы появиться без «Сонеты к Орфею».
В 60-е годы Рильке «вооружились» битники, утверждая, что Мальте Лявридс Бригге — один из крупнейших нон-конформистов ХХ века. Бегство от толпы, путешествия, неординарный образ жизни — все это объединяло изысканного Мальте и вечно молодого Керуака.
Не остались в стороне и философы. Немецкий феноменолог Мартин Хайдеггер, прочитав «Дуинские элегии» Рильке решил, что именно так следует писать философские произведения, и взялся за «Sein und Zeit». Итак, «Бытие и время» — это в определенной степени «эпигонская попытка» повторить «Дуинские элегии», что Хайдеггер, конечно, никогда бы не признал.
Назначение хорошей литературы — не зацикливаться на постоянном изобретении чего-то нового, а попробовать обновить уже известное с помощью новых приемов. Письмо — это перезагрузка традиций, что Рильке, безусловно, удалось.



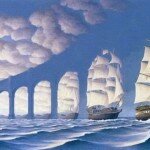
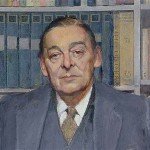
Отправить ответ