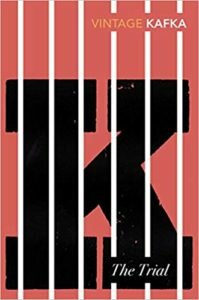
В данной работе предлагаем открыть богатый и сложный кафкианский мир через одного из его центральных персонажей. В общем, мы начнем наш путь вместе с обитателем этого мира – Йозефом К.
Но сначала представим нашего героя, отвечая на вопрос «Кто такой Йозеф К.?» Йозеф К. является сотрудником одного из банков Праги. Мы ничего не знаем и никогда не узнаем ничего о его прошлом; это, как мы увидим, весьма присуще тому, как Кафка представляет главного персонажа. Начиная наше знакомство с Йозефом К., мы замечаем, что его жизнь проходит равномерно, без резких виражей, на работе в банке, где он как рыба в воде. Вскоре этот серый, рутинный ритм его существования неожиданно прерывается. Причиной этому – банальный, на первый взгляд, банальное событие, которое описывается в нескольких словах, тех же, которые описывают нашу первую встречу с персонажем: «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест» [1]. Будучи уверенным в собственной невиновности, он пытается быстро уладить это досадное и нелепое дело, но это, хоть и речь идет о чем-то банальном, нельзя осуществить, не влезая в запутанную петлю гнусной судебной бюрократии Праги времен австро-венгерской монархии. Это дело, которое с логической точки зрения казалось в шляпе, всё больше и больше рассыпается постольку, поскольку обвиняемый тонет безвозвратно в гуще темной и разветвленной судебной организации. Год спустя двое неизвестных появляются у дома Йозефа К. чтобы исполнить решение, вынесенное на судебном заседании, о котором он не мог знать. Оказавшись у заброшенного пустыря, в довольно кафкианской атмосфере фантасмагории и реализма, ужаса и иронии, главный герой продолжает спрашивать себя, не желая признавать того, что сам процесс подходит к концу:
«Может быть, все хотели помочь? Может быть, забыты еще какие-нибудь аргументы? Несомненно, такие аргументы существовали, и, хотя логика непоколебима, но против человека, который хочет жить, и она устоять не может. Где судья, которого он ни разу не видел? Где высокий суд, куда он так и не попал? К. поднял руки и развел ладони.» [2]
Но один из палачей уже положил конец жизни Йозефа К., вонзив дважды нож мясника в его сердце. И только тогда Йозеф К. смог осознать бесчеловечный характер своей смерти, хоть и не зная причину этой смерти. Возможно потому, что он никогда не смог осознать бесчеловечный характер своей собственной жизни.
«Потухшими глазами К. видел, как оба господина у самого его лица, прильнув щекой к щеке, наблюдали за развязкой.
— Как собака, — сказал он так, как будто этому позору суждено было пережить его.» [3]
И с этими словами, которыми заканчивается сам роман, мы покидаем нашего героя, умирающего смертью, которую он представлял недостойной того существования, которое считал настоящим.
Произведение, в котором развертывается этот странный сюжет, называется «Процесс». И, действительно, весь роман нам показывает процесс над обвиняемым, что начинается с обвинения, о котором он никогда так и не узнает и которое считает необоснованным, потом предстает перед исполнением приговора, пройдя долгие, нескончаемые и таинственные ступеньки судебного механизма. Но сам судебный процесс не изображается объективно в романе, разве что отражается в главном герое через его возрастающую тревогу и печаль, через бесчисленные шаги и повороты его судьбы. Само произведение поэтому является также ходом, траекторией жизни начиная с банального события, которая постепенно набирает все более таинственное и драматическое значение, и заканчивается в ужасном измерении смерти. Роман прослеживает движение между двумя событиями: одно из них несущественное – необоснованное задержание, что является скорее следствием ошибки – и смерть обвиняемого, значение которой главный герой похоже пытается спасти от банальности сравнивая её со смертью собаки. Между этими двумя событиями – задержание Йозефа К. и исполнение главного приговора – есть обязательная связь, непрерывная связь, которую Йозеф К. никогда не признает. Именно оттуда его смелые попытки остановить невидимую судебную машину, которая своими невидимыми шагами подготавливает его смерть.
«Процесс» — произведение единого измерения, одномерное. Поэтому стоило бы сказать, что реальный главный герой романа не сколько Йозеф К., сколько сам судебный процесс. На самом деле, всё, что мы встречаем на страницах романа, существует только в отношении к этому единственному измерению. И сам Йозеф К., как мы увидим, это человек, который живет на одном уровне.
Франц Кафка, автор произведения, родился 3 июля 1883 года. Он получил юридическое образование и на протяжении нескольких лет работал в страховой компании, которая занималась несчастными случаями на производстве. Но его настоящим стремлением было найти свободное время, чтобы писать. Таким образом, он ведет двойную жизнь, но из кожи вон лезет, чтобы жить той жизнью, которую считает настоящей, так этого и не достигнув.
«Поэтому я стал чиновником в обществе социального страхования. Но эти две профессии никак не могут ужиться друг с другом и допустить, чтобы я был счастлив сразу с обеими. Малейшее счастье, доставляемое одной из них, оборачивается большим несчастьем в другой. Если я вечером написал что-то хорошее, я на следующий день на службе весь горю и ничего не могу делать. Эти метания из стороны в сторону становятся все более мучительными. На службе я внешне выполняю свои обязанности, но внутренние обязанности я не выполняю, а каждая невыполненная внутренняя обязанность превращается в несчастье, и оно потом уже не покидает меня.» [4]
Это раздвоение бытия, которое сам Кафка болезненно чувствует, будет, как станет ясно потом, одним из ключевых моментов для понимания абстрактной – обескровленной – судьбы Йозефа К..
Посреди этих грустных метаний между тем, что Кафка называет внешними обязанностями и внутренними, он пишет свои одни из своих важнейших произведений: «Америка», «Превращение» и «Процесс» (последний из этих он пишет в 1914-1915 гг.). Три раза он влюбляется и избегает брака, опасаясь того, что это не позволит удовлетворить требования его литературного призвания. Эти страхи усиливаются, когда проявляется во всей её полноте его болезненная природа. С 1920 года его состояние ухудшается. В 1923 году любовь снова врывается в его жизнь, и Кафка на этот раз решается пойти дальше с уверенностью и надеждой туда, где он раньше видел только опасность его созидательному одиночеству. Но зимой 1923-1924 гг. болезнь всё больше подточило его ослабленные силы и, как итог, 3 июня 1924 года он умирает.
Произведения Кафки испытали шаткую и странную судьбу. При жизни автора было опубликовано мало произведений, при том не самые важные. В своём завещании 1921 года он указал, чтобы все его сочинения без исключения были уничтожены. Однако, не выполнив его волю, близкий друг Кафки Макс Брод понемногу издавал серию произведений писателя, среди них «Процесс», и 12 тетрадей, которые вошли в «Дневники», написанные между 1910 и 1923 годами. Публикация этих ранее неизданных текстов вскоре привлекает внимание специалистов, но, главным образом это произошло во время Второй мировой войны и после, когда его известность достигла пика, выйдя за рамки кружков исследователей творчества писателя.
Интерпретации вселенной Кафки
Как только появились его важнейшие работы, Кафка стал объектом разнообразных интерпретаций. Публикация его «Письма отцу» дало толчок психоаналитической интерпретации. Целое наследие гениального чешского автора исследовалось с точки зрения этого письма, написанного 1919 года, которое считалось большой находкой психоанализа. Мрачный, загадочный и сложный писатель ставал благодаря этому редукционистскому методу более понятным и открытым чем больше упрощалась и сужалась проблематика произведений Кафки, полностью лишенная исторического и общественного контекста. Двойственность взаимоотношений Кафки с отцом должно было объяснить всё. Эта двойственность действительно имела место быть – именно Кафка вынес её на поверхность – но она же, будучи далеко не сутью мира Кафки, в свою очередь требовала объяснения далеко за рамками схематической модели Эдипового комплекса. Неслучайно и то, что сам Кафка, возможно остерегаясь подобного упрощения, обращал внимание к ограничениям психоанализа.
Попытки увидеть в произведениях Кафки религиозную проблематику мы находим в первую очередь в биографии Кафки авторства Макса Брода. Согласно с этой интерпретацией Кафка верит в абсолютный мир; существует абсолют, но вместе с этим существует и вечное непонимание между человеком и богом. Макс Брод приводит несколько эпизодов в пользу своего утверждения, и они должны были быть перекручены дабы выделить из них религиозное мировоззрение Кафки. Экзистенциалистам, кажется, лучше удается исследовать мир Кафки, им удается выделить в нём мотивы, которые впоследствии, будут резонировать в так называемой философии бытия: тема индивида, который воспринимает себя случайно «заброшенным» в мир; тема радикальной индивидуальности, равно как и одиночества, неполноценности и бессилия состояния человека, которое неизбежно переходит в отчаяние и страдание. Но, главным образом, отчетливо звучит тема, очень близкая философии экзистенциализма, отсутствия смысла или абсурдность жизни. Кафка литературно предварил то, что Хайдеггер, Сартр и Камю развивали в философском плане. А что же марксисты? Поставив Кафку в определенный историко-общественный контекст и связав его произведения с его концепцией мира, они могут прояснить то, что другим кажется загадочным. Таким образом не получится объяснить всё богатство мира Кафки, но всё же откроются возможности для того, чтобы подобное объяснение появилось. Некоторые марксисты, конечно же, видели у Кафки только выражение упадка буржуазного мира, и, обрекая этот мир, они обрекают и самого Кафку. Этим они попали в ловушку – уступив творчество Кафки буржуазии, как будто Кафку можно было поместить в узкие рамки буржуазного мира; разумеется, его произведения – особенным и гениальным способом – изображают этот разлагающийся мир, но это изображение таково, что его персонажи как будто говорят нам: вот, что люди сделали с собой; вот, как происходит дегуманизация и деградация. Также понятно, что, как мы видим, Кафка склонен воспринимать эту деградацию и дегуманизацию вне времени, абстрактно. Конечно же, достаточно будет того, что мы попытаемся найти настоящее основание, на котором держится этот мир иллюзий и кошмаров, для того, чтобы раскрыть полный потенциал критики кафкианских описаний, — критики, которая ведет к отвержению общества, порождающего таких людей, каких Кафка нам представляет в лице Йозефа К. Но вернемся к изначальному вопросу: кто такой Йозеф К.?
Йозеф К. или абстракция настоящего человека
Первое, что удивляет читателя «Процесса» — это имя его главного персонажа. Почему его фамилию нам подают в виде инициала «К.»? Читателю, незнакомому с персонажами писателя, мы можем сказать, что такой приём присущ не только «Процессу», но и другому важному роману Кафки, «Замку», где имя сокращено ещё больше, и оно теперь только «К.». Но, если мы ответим таким образом, мы только оставим вопрос в подвешенном состоянии. Давайте вспомним, что в «Процессе» все персонажи имеют привычные имена: фрау Грубах, хозяйка квартиры; фройляйн Бюрстнер, соседка по квартире; стражи, которые задерживают Йозефа К., его дядя, адвокаты, к чьим услугам он прибегает и т.д. Даже у персонажей, которые ненадолго появляются на страницах книги, есть свои имена. Только палачей Кафка иронично называет «господами», как будто подчеркивая полную отрешенность, в которой находится обвиняемый по отношению к обвинению и суду, равно как и по отношению к исполнителям приговора. Получается, что главный персонаж «Процесса», который в действительности полностью заполняет собой сюжет и практически не выпадает из него, это единственный человек, чьё имя — это просто инициал.
Кафка подталкивает нас к тому, чтобы мы помнили на протяжении всего произведения, что судьба Йозефа К. это не судьба какого-то привилегированного персонажа, это судьба любого человека. Но с другой стороны, это не человек из плоти и крови, как сказал бы Унамуно, а скорее абстракция реального человека; конкретная и живая сущность К. находится вне сетей общественных отношений, среди которых находится Йозеф К; сначала, как сотрудник банка – в целом, Кафка не раскрывает нам предыдущее измерение его бытия – и потом, как обвиняемый, превращенный в судебное дело. Кафка представляет нам этого персонажа сугубо в этом измерении. Перестав называть его полным именем и называя его буквой К, он подчеркивает абстрактный характер человеческого бытия, когда оно теряет само себя, когда реальный человек лишает и лишается собственного конкретного, живого содержания для того, чтобы превратится в абстракцию, которую можно выразить цифрой или буквой.
Этот абстрактный план главного персонажа выражается в отсутствии индивидуальных черт при описании. Нет смысла искать эти черты в «Процессе». Что мы знаем о его детстве и молодости? Ничего. Что мы знаем о жизни Йозефа К. до или вне его работы? Ничего. Мы только лишь знаем о его настоящем, но о настоящем сведенным к этим двум ипостасям: сотрудника банка и обвиняемого/судебного дела.
С такой одномерностью бытия настоящий человек беднеет. Его жизнь отображает универсальность, которая является карикатурой на настоящую универсальность, то есть, такую, где люди узнают друг друга по своей пустоте или обезличивании. Как сказал бы Гегель, это формальная или абстрактная универсальность. Несмотря на это, абстрактная сущность, которую Кафка представляет нам, не является его собственным изобретением в том смысле, что оно не имеет отношения с реальностью. Эти человеческие создания существуют в реальности; именно опираясь на нее сам Кафка взял своего персонажа, и, благодаря этому, благодаря этой верности реальному, мы без сомнения можем считать его реалистом, хотя некоторые считают по-настоящему кафкианской территорией нереальное, странное и парадоксальное. На самом деле, в реальной жизни существуют такие люди, чья жизнь настолько пуста и настолько обезличена, что она проходит на уровне абстрактной универсальности или формальной общности, в которой и живет персонаж Кафки.
Бюрократический мир Йозефа К.
Люди, которые живут на таком уровне, с последовательной потерей или искажением их реального бытия, это те люди, которые, преимущественно, живут погребенными в мире бюрократии, то есть, в мире, где скорлупа формального и абстрактного обволакивает весь личный и живой импульс. В этом мире, где рассеивается все по правде человеческие отношения, в этом безликом мире, Йозеф К. чувствует себя вольготно, поскольку он не способен понять, как сильно мир обернулся против него и остальных людей. Но в этом мире формального и формализированного образуется трещина, поначалу кажущаяся неважной, но с каждым разом все более глубокая. Йозеф К. отныне ощущает себя в опасности; защищенность, присутствовавшая в его бюрократическом мире, начинает пошатываться. Этот бюрократический мир перестает поддерживать его, и уже на весу, без опоры, его поглощает другая разновидность мира: судебная бюрократия. Йозеф К., которые уже не был по сути человеком, а скорее абстракцией человека, оказывается в невидимых сетях судебной системы, из которой ему уже не выбраться.
Мы упоминали ранее о верности Кафке реальному. И, на самом деле, чешский писатель ни больше ни меньше описал реальные человеческие отношения, свойственные капиталистическому обществу в общем, в особой форме, которую они принимают в отсталом государстве австро-венгерской монархии, современной ему. Подобные отношения, в той или иной форме, можно встретить в любой капиталистической стране, и даже в социалистической стране, по мере того, как ложное понятие централизации и демократии ослабляет связь между чиновниками и народом.
Еще Маркс указал на разъедающую роль бюрократии, критикую политическую философию Гегеля и, внутри неё, высокую роль, придаваемую Гегелем бюрократии как воплощению высоких целей государства, воплощению общих интересов. В своей «Критике гегелевской философии права» Маркс доказывал ложность этой мнимой защиты универсальности; наоборот, бюрократия, по своему мнению, стает особой целью в государстве. Цели государства она отождествляет со своими, и этим Гегель переставляет местами настоящие отношения между формальным и материальным, абстрактным и конкретным, реальным и вымышленным. «Но реальная сущность – говорит Маркс — рассматривается бюрократией сквозь призму бюрократической сущности, сквозь призму потусторонней, спиритуалистической сущности…» [5]. Именно этот способ рассмотрения конкретных человеческих взаимоотношений согласно абстрактной сущности, согласно её нереальности, именно это показывает Кафка. Подобным образом, в «Процессе», реальный человек, превращенный в судебное «дело», рассматривается как абстрактная сущность, то бишь, оставляя в стороне любые человеческие черты, которые неинтересны постольку, поскольку к нему относятся как к «судебному делу».
Маркс также отметил еще одну черту бюрократии, которая блестяще изображена в романе: её потаённость, загадку.
Йозеф К. никогда не узнает в чем его обвиняют. Ничего не знают об этом и остальные. Работники, с которыми он связался, ничего не могу сообщить ему. “ «Мы — низшие чины”, — говорят они — мы и в документах почти ничего не смыслим» [6]. Обвиняемый вопрошает, но сталкивается с непреодолимой стеной. «Какое ведомство ведет дело? Вы чиновники?» [7]. Но чиновники отвергают любое вмешательство в свои дела и всего лишь отвечают устами одного из них: «Да, вы арестованы, это верно, но больше я ничего не знаю.»[8]
Именно тайна обеспечивает крепость этой бескрайней стены. И как бы не пробивался лучик света, стена остается бесконечной.
«Ступени и ранги суда бесконечны и неизвестны даже посвященным. А все судопроизводство в общем является тайной и для низших служащих, оттого они почти никогда не могут проследить дальнейший ход тех данных, которые они обрабатывают». [9]
То, что Кафка пишет о судебной бюрократии, Маркс считал это свойственным бюрократии государства-угнетателя. «Бюрократия – пишет Маркс – имеет в своём обладании государство…». Таким образом, там, где есть частная собственность, там также есть склонность к тому, чтобы обнести стеной сферу своих владений; бюрократия ставит ограду вокруг своего имущества, закрывается сама в себе и пытается устранить всё, что, по её мнению, является незаконным вмешательством в её владения. Она никогда не открывается с внешней стороны или снизу, в то время как она всегда готова открыться сверху, тем, кто находится выше по иерархической лестнице. Отсюда происходит тайна, защита бюрократа от тех, кто хочет покусится на его священную территорию. Поэтому Маркс справедливо утверждает, что «всеобщий дух бюрократии есть тайна, таинство».
Кафка изображает Йозефа К. в его бесконечной и безуспешной борьбе с тем, чтобы раскрыть эту тайну, но у него никогда так и не получится выйти из этого порочного круга судебной бюрократии. Всё только укрепляет этот круг: молчание чиновников, тайные слушания, непостижимый язык свода законов, хитрость процедур и т.д. Между обвинителем и обвиняемым, между законом и конкретным поступком, тайна открывает непреодолимую пропасть, и тайна только мистифицирует отношения.
Вселенная абсурда
Утратив проницаемость, человеческие отношения стают иррациональными, нереальными и абсурдными. Понятно, почему Альбер Камю хотел увидеть в произведениях Кафки подтверждение своей философии абсурдного. Кафка, на первый взгляд, поддерживал концепцию абсурдности нашего существования, то есть, какой смысл имеет быть преследуемым и осужденным за то, чего не знаешь, и теми, кого не знаешь? Какой смысл в борьбе, которая ведёт лишь к поражению, и которая своим бессилием доказывает свою бессмысленность?
Итак, равно как мы не можем критиковать Кафку за то, что он представил нам нереальную, абстрактную и бюрократическую сущность человека, а только за то, что он представил это в безвременном и абстрактном виде, то есть, не открывая настоящего основания, которое порождает эту абстрактную сущность человека, мы также не можем критиковать Кафку за открытие человеческого бытия как бытия иррационального, абсурдного. Кафка не выдумал сам абсурдный и иррациональный характер человеческих отношений, иррациональность существует в реальной жизни. Кафка помогает увидеть эту иррациональность, показывая абсурдность тайны, абсурдность приговора, вынесенного неизвестными судьями за неизвестное преступление, равно как и абсурдную – из-за её бессилия – попытку Йозефа К. дать отпор непреодолимому натиску, которое довлеет над его бытием. Всё это абсурдно, равно как и множество действий в капиталистическом обществе: например, то, что рабочий – создатель благ – беднеет, а тот, кто их не создаёт – капиталист – обогащается на них; то, что вещи приобретают такую власть, что устанавливают её над самими людьми и т.д.
Во времена других эпох некоторые природные явления, сегодня понятные нам, казались иррациональными, и дать объяснение им, которого на тот момент, в свете здравого смысла, не существовало, было на плечах магии или религии. Но абсурдное или иррациональное не существует само по себе, кроме как тогда, когда явление не может стать частью контекста или всеобщности, которая могла бы его объяснить. Когда утверждается, что вселенная Кафки это вселенная абсурда, в какое отношение помещается абсурдное с реальным и рациональным? События, описываемые Кафкой, вызывает ряд вопросов: почему Йозеф К. поступает так, а не иначе? Почему происходит это невидимый процесс? Всё это является или кажется реальным, и, всё-таки, не имеет смысла для нас. Если мы будем пробовать найти объяснение всему происходящему на внешнем уровне, на уровне обычного действия, мы его не найдем, и отсюда проистекает абсурд. В общем, когда мы не способны дать объяснение реальным событиям здесь, в нашем мире, остается лишь сделать из абсурда абсолют, или же искать значение этих событий в мире бесконечного, трансцендентного, что и пытался сделать Макс Брод. Подобным образом, для поиска разгадки поведения Йозефа К., необходимо выйти за пределы конкретного мира, мира реального, и попытаться понять человеческий абсурд, ссылаясь на сверхчеловеческий разум. Согласно этой интерпретации, абсурдное и рациональное сосуществуют, но в двух разных мирах: один из них – человеческий, другой – божественный, трансцендентный.
Человеческое отчуждение и абсурдность
Уже почти более века назад Маркс указал на мистический, иррациональный или абсурдный характер человеческих отношений, когда они приобретают форму отношений между вещами. Он так же показал, начиная с «Экономическо-философских рукописей 1844 года», что ключ к этим отношениям нужно искать в самом человеке, в определенном виде общественных отношений. С тех пор мы знаем, что причина сущности абсурдного в человеке находится в отчуждении человека, которое возникает тогда, когда труд, являясь сутью человека, не только утверждает его, но и овеществляет или обесчеловечивает его. Это реальное отчуждение, экономическое, выражается в сфере политических и общественных отношений как разделение конкретного человека на индивида и гражданина, ведущего двойную жизнь: жизнь публичную и приватную. Отношение между индивидом и гражданином, следовательно, имеет внешний характер. Индивид не признает себя в обществе. Когда он действует в коллективе, как часть государства, он абстрагируется от своей настоящей живой сущности. Настоящие индивидуальность и универсальность находятся в неустранимом противоречии. Решение этого противоречия находится в жертвовании одного понятия другому. Так, например, Йозеф К. жертвует своей индивидуальностью в угоду ложной или формальной универсальности его бюрократической сущности. Его бытие, следовательно, приобретает абсурдный и иррациональный характер, но корень этого стоит искать в отчуждённом мире людей.
Поэтому абсурдное и рациональное существуют не в двух отдельных мирах, — человеческое в одном, а сверхчеловеческое в другом, — а скорее в одном мире, мире человека, но на разных уровнях. Человеческий абсурд является явлением, проявлением более глубокой сущности. Абсурдное, иррациональное всего лишь маскирует скрытую рациональность, обращенную против человека, но, в конечном счете, оно существует на уровне определённых, действительных, человеческих, экономическо-общественных отношений.
Если мы обратим наш взор на нашего героя, мы увидим, что он живёт полностью отчужденной жизнью. Мы уже сказали, что такой образ жизни выражается в каждом живом человеке как разделение между публичным и личным, между общим и индивидуальным. Этот живой человек превращается в поле боя, в особенности, пока по-настоящему личное опирается уничтожению в абстрактной универсальности, то есть, пока он сопротивляется тому, чтобы принести на алтарь пустой или формальной универсальности, с которой он себя не отождествляет, его собственно человеческие качества. Процесс отчуждения достигает своего апогея тогда, когда теряется какое-нибудь осознание этого раздвоения, то есть, когда процесс овеществления зашёл настолько далеко, что полностью стирается настоящая индивидуальность. Реальная сущность человека, таким образом, состоит в абстрагировании от его настоящей сущности, в его человеческом безличии и нереальности.
Йозеф К. является воплощением высшей точки отчуждения человека. Всё это дошло до такого предела, что он уже не воспринимает свою жизнь как разделенную напополам. Он уже не замечает конфликта или разделения между личной жизнью и жизнью публичной, поскольку у него уже нет личной жизни. Его сущность ограничивается сущностью чиновника, его ничего не интересует за пределами этой сущности. Отчуждение Йозефа К. настолько глубоко, что он уже не чувствует себя ни уверенным, ни «подготовленным» к этой абстрактной, пустой, бюрократической, одним словом – отчужденной — сущности. Как человек, который обречен смотреться всю жизнь в кривое зеркало, Йозеф К. узнает себя только тогда, когда видит свое искривленное отражение. Более того, лишь проживая отчужденную жизнь, он чувствует себя в безопасности. Банк для Йозефа К. это единственная твердая почва под ногами. Поэтому, когда он сталкивается с новой и неожиданной ситуацией, как его судебный процесс, он чувствует себя слабым, неуверенным, уязвимым. Трещина в том мире, в котором он живет, в итоге приведет к тому, что почва, на которой он стоит, ускользнет из-под его ног. Йозеф К. не готов сопротивляться новой ситуации с той уверенностью, с которой он сопротивляется событиям в рамках его отчужденной жизни.
«Но в таких делах человек легко попадает впросак. Вот, например, в банке я ко всему подготовлен, там ничего подобного со мной случиться не могло бы, там у меня свой курьер, на столе стоит городской и внутренний телефон, все время заходят люди — и служащие и клиенты, да кроме того, я там все время связан с работой, во всем отдаю себе отчет, там такая история мне просто доставила бы удовольствие.» [10]
То есть, Йозеф К., как сотрудник банка, ощущает себя в своей стихии, и, таким образом, чувствует себя уверенным, и всегда «во всем отдаёт себе отчет». Именно потому, что он свел свою реальную жизнь к абстрактному, он может находится там с уверенностью и защищенностью, так как все живое, личное из этой жизни было исключено. Его жизнь стает проблематичной только тогда, когда её пошатнул незаурядный случай, затрагивающий уже не его абстрактную, бюрократическую сущность, но его сущность реальную, индивидуальную. Случай подобного рода Йозеф К. уже не может ввернуть в его абстрактно-универсальную сущность, и отсюда его горькое принятие ужасной правды: «Но в таких делах человек легко попадает впросак.» В действительности, однотонная и одномерная жизнь героя Кафки должна столкнуться с неожиданным случаем: довлеющим над ним обвинением. С этого момента Йозефу К. необходимо разделить свои силы, дабы ходить на работу и защищать самого себя. Его сущность теперь не ограничивается общим существованием в качестве сотрудника банка; что-то начинает произрастать вне этой жизни, что-то начавшееся как несущественное событие и занимающее небольшую дыру в его пустой жизни, а потом заполнив всю его жизнь. Более того, сфера жизни, в которой он чувствовал себя в безопасности, превращается в препятствие для разрешения того, чего только он сам, своей индивидуальностью, вне его банковской жизни, должен решить. Можно подумать, что раз Йозеф К. меньше тратит времени на свою работу, и все больше посвящает себя решению того, что его затрагивает лично, он начинает осознавать раздвоение его жизни, и спасается на сокровенной территории личной жизни. Но Кафка верно поступил, так как не начал искать решение – типичное для буржуазного индивидуализма – в том, чтобы только изменить планы; тут не идет речь о том, чтобы свести индивидуальное к общему или же наоборот. Йозеф К., столкнувшись с проблемой, затрагивающей только его одного, всего лишь обращает внимание на то, насколько он сильно он является заложником отчуждения. Для него общая абстрактная сфера бытия, где раскрывается его бюрократическая сущность, продолжает оставаться его подлинной жизнью, а судебный процесс ему кажется похожим на нарушение порядка вещей этой жизни, хоть и с каждым разом все более сильным. Необходимость защищаться, то есть, выйти из этого абстрактного мира, огорчает и сердит его.
«Каждый час, проведенный вне стен кабинета, был для него сплошным огорчением, хотя и служебное время он проводил уже далеко не так продуктивно, как раньше. Иногда часы тянулись в какой-то жалкой видимости настоящей работы, но тем сильнее он бывал озабочен, когда приходилось отсутствовать.» [11]
Маркс показал, что одной из форм отчуждения рабочего проявляется в акте труда, то есть, в отношении рабочего к самому себе в условиях отчужденного труда. Следовательно, работа представляется ему чем-то внешним, что умерщвляет и отрицает его, как нечто находящееся вне его природы. Отсюда и происходит его чувство недовольства, потому как это не развивает его физически и духовно. Йозеф К. проживает такую отчужденную жизнь потому, что не может вступить в по-настоящему человеческие отношения, и, в этом смысле, объективно его деятельность в банке так же чужда ему, как и труд рабочему. Однако, субъективно, не ощущая недовольства, он находит удовольствие в работе в банке, видя в ней свою настоящую жизнь.
Кафка описывает это обстоятельство, не давая нам разгадку к нему. Удовлетворение Йозефа К. своим отчуждённым бытием, когда удар по нему открывает брешь, сквозь которую он мог обрести свою личность, является по праву тем, что определит горькую судьбу его борьбы. Мир, с которым должен столкнуться Йозеф К. для него является миром противоположным тому, где он чувствует себя уверенным и защищенным. В первую очередь, это мир, где любая несправедливость дозволена, коррумпированный и продажный мир, смысл которого в том, «чтобы арестовывать невинных людей и затевать против них бессмысленный и по большей части — как, например, в моем случае — безрезультатный процесс.». Таким его видит Йозеф К.. Но он не видит, что этот мир – дух бюрократии утончается с каждым разом всё больше – является всего лишь частью того самого отчужденного мира, в котором разворачивается его жизнь банковского бюрократа. Он ведет борьбу против несправедливого мира, не порывая с абстрактным, безличным бытием, продолжая считать его настоящим. И он не только не порывает с ним, но и пытается спасти его в этой борьбе. Поэтому время, которое он потратил на защиту самого себя, по его мнению, является украденным у его основной деятельности. Отсюда происходит также то, что он ведет борьбу оставив в стороне свою абстрактную сущность, дабы вести её как не менее абстрактный индивид. Проблема в том, что бюрократ не знает другой формы общности, кроме как абстрактной, которая основывается на лишении настоящих человеческих качеств; поэтому Йозеф К. решает бороться, так как «он попал в самую гущу и должен был защищаться.» [12]
Безуспешная борьба Йозефа К.
Но что за борьбу ведет Йозеф К. против могучей судебной бюрократии, что с каждым разом сильнее обступает его? Это борьба, не переходящая словесного возражения против судебных процедур или желания дойти аж до высших чинов, которые могут благосклонно повлиять на исход дела; это безуспешная борьба, которая не может предотвратить исполнение приговора.
Кафка показывает нам бесполезность, абсурдный характер борьбы и поражение Йозефа К., ведущего эту единоличную борьбу против машины несправедливости в лице судебной бюрократии. Он полагается только на свои собственные силы, и отсюда его беспомощность. Ему неизвестна другая форма общности, кроме как формальная и пустая общность бюрократии. Следовательно, будучи неспособным объединить свои поступки в одно по-настоящему общее действие, Йозеф К. ведет безуспешную и одинокую борьбу.
Кафка показывает нам безуспешность личной борьбы, но в его понимании другого выхода нет. Для того, чтобы борьба возымела какой-либо эффект, в первую очередь необходимо было бы её направить против экономическо-социального базиса, который делает возможным как отчужденное бытие Йозефа К., так и судебную структуру, вынесшую ему приговор. Иными словами, в отчужденном мире, борьба бессмысленна, пока она не будет отталкиваться от осознания экономическо-социальных условий отчуждения, и пока она не примет характер коллективного практического действия, нацеленного на изменение этих условий.
Индивид и общность во вселенной Кафки
Кафка осознавал необходимость решения основной проблемы: проблемы отношений между индивидом и общностью. «Процесс» показывает, что он не только заметил эту проблему, но также обратил внимание на ложность некоторых попыток решить её. Чего он не увидел, и не мог увидеть согласно своему пониманию мира, так это то, что является действительным решением настолько старой проблемы, как и сам человек.
Йозеф К., с его абстрактной универсальностью, с его бюрократической сущностью, где личное поглощено общим, является воплощением человеческих отношений, где стирается настоящая индивидуальность. Описывая обезличенную жизнь Йозефа К., Кафка показывает и вместе с тем недвусмысленно осуждает эту ложную общность, свойственную, главным образом, капиталистическому обществу. Но Йозеф К., с его бесплодной личной борьбой и неспособностью влиться в настоящую общность, является также воплощением ложной индивидуальности.
Таким образом, Кафка показывает фальшивость двух одинаково односторонних позиций: позиции формальной общности, выраженной в абстрактной, бюрократической сущности Йозефа К., и позиции абстрактной индивидуальности, иначе говоря, одинокого человека, зацикленного на самом себе, выраженной в поражении Йозефа К.. Невозможно сопротивляться в одиночку абсолютному проявлению отчуждения, чем и является бюрократия. Йозеф К. своей смертью доказывает бессмысленность единоличной борьбы.
Образ Кафки, воспевающего одиночество, происходит от неуместного и притянутого за уши сближения его с Кьеркегором, что не отвечает действительности, хотя некоторые пассажи «Дневника» Кафки при свободной трактовке могут произвести подобное впечатление. В этом смысле, нельзя забывать, что Кафка также написал в этом дневнике, что «быть одному не приносит ничего кроме наказания». Кафка чувствовал необходимость настоящей общности людей, и остро критиковал нечеловеческий характер абстрактной общности, достигаемой за счет полного обезличивания. Не поставив на конкретный фундамент проблему отношений между индивидом и общностью, Кафка оставил висеть в воздухе её решение. Он видел определенное условие человека – отчуждение, власть вещей над человеком – вне исторического и социального контекста, и этим он закрыл себе путь к тому, чтобы найти общественные силы, призванные положить конец овеществлению человеческого бытия.
Этим мы не хотим сказать, что Кафка не мог познать общественное. Например, он смог уловить дегуманизирующий характер конкретных общественных отношений, капиталистических отношений. «Капитализм – писал Кафка – система зависимостей, идущих изнутри наружу, снаружи вовнутрь, сверху вниз и снизу вверх. Всё зависимо, всё скованно. Капитализм – состояние мира и души.» Ссылаясь на тейлоризм, работу на конвейере, он также сказал: «мы не более чем вещи, объекты, нежели живые существа».
Сочувствие Кафки угнетенным всегда заметно, как, например, к тем, чья личность при капитализме калечиться на полностью чуждой им работе. Сам Кафка пережил, как мы видим, мучение разделения между настоящей личностью и работой, которая её отрицает. С другой стороны, работая в страховой компании, он приобрел четкое понимание социальной несправедливости и поближе узнал страдания, порожденные бюрократической машиной. Однако, Кафка не видел в угнетенных ничего больше, чем людей, утопающих в боли, а не как общественную силу, способную преобразовать систему «зависимостей», где множиться страдание. Он видел в дегуманизации и порождаемой ей боли силу вне контроля людей, силу, которую люди не в силе искоренить, преобразовывая общественные отношения. Отсюда следует его скептическое отношение к революционным попыткам изменить мир.
Кафка увидел негативное, но не мог выйти за его пределы. Достаточно отвергнуть негативное, дабы увидеть всё позитивное и плодотворное в произведениях Кафки. Для этого нужно поставить произведения Кафки в контекст реального, и тогда мы увидим, что этот иррациональный, абсурдный и несправедливый мир, описываемый ним, на самом деле существует, но в рамках исторически обусловленных человеческий отношениях. Хотя Кафка не указал ни на глубинные причины бесчеловечного мира, ни на пути его преодоления, очевидно, что его произведения, изображая этот абсурдный и бесчеловечный мир, подразумевает глубокую критику такого мира. Воспринимать произведения писателя в контексте безвременном, как апологию абсурда и иррационального в себе, разрывая все связи произведений с его реальным фундаментом, означает продолжать абстрагирование, против которого восстал сам Кафка, и, в конечном счете, означает помочь закрыть путь к решению фундаментальной кафкианской проблемы, что является также главной проблемой нашего времени: включение человека в общество, иными словами, единение настоящей общности и настоящей индивидуальности.
Примечания
[1] Франц Кафка. Процесс. Роман, Новеллы, Притчи. М., 1965, с. 67
[2] Там же, с. 310
[3] Там же, с. 310
[4] Франц Кафка. Дневники 1910-1923. Путевые дневники. Письмо отцу. Завещание. М., 2004, с. 36
[5] Карл Маркс. К критике Гегелевской философии права. https://www.marxists.org/russkij/marx/1844/philosophy_right/01.htm
[6] Франц Кафка. Процесс. Роман, Новеллы, Притчи. М., 1965, с. 72
[7] Там же, с. 78
[8] Там же.
[9] Там же, с. 191
[10] Там же, с. 87
[11] Там же, с. 278
[12] Там же, с. 198
Перевод В. Петруши по изданию Adolfo Sánchez Vázquez. Las ideas estéticas de Marx (Ensayos de estética marxista), Biblioteca Era, México, 1979





Отправить ответ